Знали и могли: как молодежь двигала атомную науку
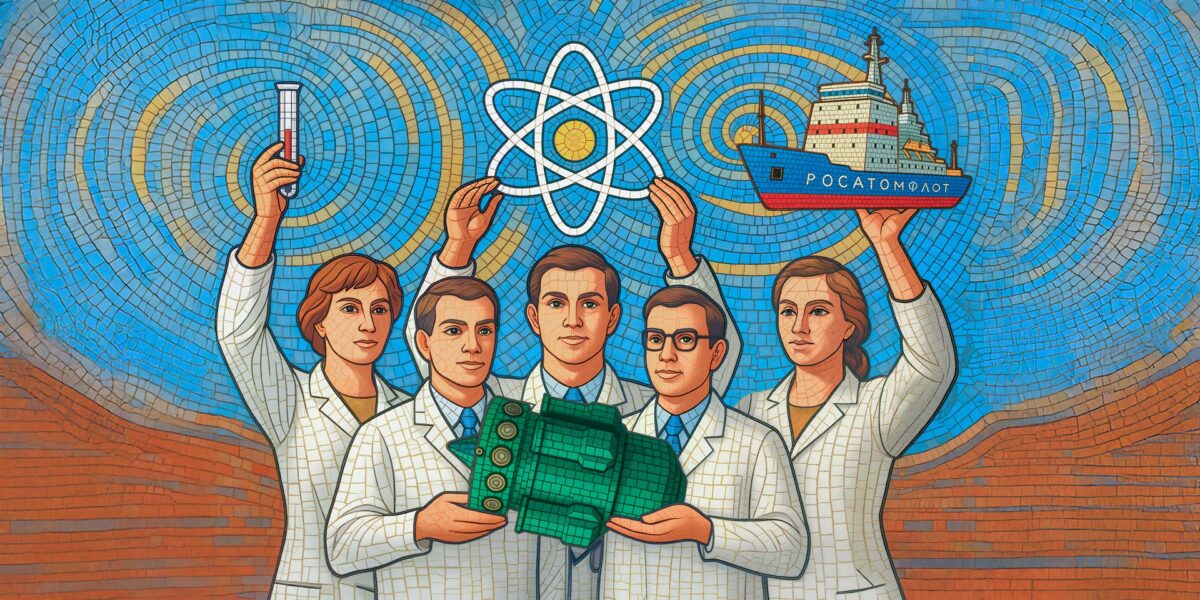
Афоризм о немогущей старости и незнающей молодости хорош, но на историю атомпрома эти слова не ложатся. Биографии шести наших героев объясняют почему. Потому что молодыми были наука, заводы и города новой отрасли. Потому что корифеи доверяли и учили — все хотели поскорее начать, чтобы все успеть.

Директор завода в 29 лет
Отец советского реакторного графита Владимир Гончаров (1912–1994) пришел в 1943 году к Курчатову в его новую Лабораторию № 2 АН СССР (с 1949-го Лаборатория измерительных приборов, потом Институт атомной энергии, в наше время Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»). Рекомендовал молодого человека нарком химической промышленности и один из кураторов атомного проекта Михаил Первухин. К тому моменту Владимир Гончаров имел за плечами опыт руководства стратегически важным предприятием: в 29 лет он стал директором завода синтетического каучука в Баку. А заместителем директора и вовсе работал с 23 лет.
Почему химик-технолог попал к Курчатову, причем сразу на должность его заместителя? Атомному проекту нужны были не только физики-теоретики и экспериментаторы, но и талантливые организаторы исследований и производства. «Я работал рядом с выдающимся человеком, был его ближайшим помощником в институте и вносил свою долю в грандиозное и жизненно важное для обороны страны дело», — вспоминал Владимир Гончаров.
Доля — скромно сказано. Доктор технических наук Владимир Гончаров был ведущим разработчиком технологии производства реакторного графита, руководил исследованиями, направленными на совершенствование тепловыделяющих элементов для АЭС, атомного флота и экспериментальных ядерных установок. Сверхчистый графит для первого нашего реактора Ф‑1 и реактора «А», на котором наработали оружейный плутоний для первой советской атомной бомбы, — заслуги Владимира Гончарова. И первую свою Сталинскую премию он получил именно за это.
А всего высших советских премий он удостаивался четырежды. В Институте атомной энергии Владимир Гончаров проработал полвека. Пятая высшая премия — уже правительства России — посмертная: за создание в комплексе синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института реактора ИР‑8, предназначенного для отработки перспективных технологий. Это, наверное, и есть та самая «жизнь после».

Главный радиолог Гражданской обороны СССР в 33 года
Врач в четвертом поколении Ангелина Гуськова (1924–2015), конечно, не занималась разработкой атомной техники. Она крупнейший, с мировым именем специалист в радиационной медицине, член-корреспондент Академии медицинских наук, лауреат Ленинской премии.
В 1948 году Ангелина Гуськова получила назначение в Челябинск-40 (нынешний «Маяк» в Озерске), в неврологическое отделение медикосанитарного отдела для строителей и сотрудников комбината № 817. Из-за обстановки секретности родители два года не имели с ней связи и даже думали, что дочь арестовали, — время было такое.
Защитив в 1951 году кандидатскую диссертацию, Ангелина Гуськова стала научным сотрудником филиала Института биофизики Минздрава СССР, учрежденного на базе биологического отдела центральной заводской лаборатории комбината. В 1957 году Ангелину Гуськову, уже доктора наук, перевели в Москву, в клинику этого института, и назначили по совместительству главным радиологом Гражданской обороны СССР. По сути, генеральская должность — длительное время начальником ГО был даже маршал Василий Чуйков.
Ангелина Гуськова — основоположник отечественной школы медицинской радиологии и терапии лучевой болезни. Занимаясь охраной здоровья сотрудников атомной отрасли, причем со старта ядерной гонки с США, она спасала пострадавших от воздействия радиации и гордилась тем, что многим ее деятельность позволила восстановиться.
С 1960‑х годов Ангелина Гуськова участвовала в деятельности Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по атомной энергии.

Лаборатория под собственную научную тему в 29 лет
Жизнь ученого-радиохимика Лии Сохиной (1925–2002) — синтез науки и производства: ее научные достижения непосредственно связаны с работой на комбинате № 817.
Окончив с отличием химический факультет Воронежского университета, Лия Сохина получила назначение в НИИ‑9, ныне Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов им. Бочвара. Там ей с коллегами поручили технологию очистки (аффинажа) оружейного плутония от примесей. В 1949 году Лия Сохина в числе других стажеров прибыла в Челябинск‑40 на плутониевый завод, чтобы сделать аффинаж плутония промышленным. В 1952 году, окончив аспирантуру, она защитила в НИИ‑9 кандидатскую по этой технологии — в присутствии самого академика Андрея Бочвара.
В 1953 году молодой инженер-исследователь вернулась на комбинат — в центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ). В следующем году возглавила сформированную при ЦЗЛ лабораторию по обезвреживанию радиоактивных отходов, содержащих плутоний. В 1959 году стала заместителем начальника ЦЗЛ по научным вопросам и членом ученого совета комбината. Занималась выявлением неучтенных потерь плутония на радиохимическом производстве. На основе этих наработок защитила докторскую диссертацию.
Начальником ЦЗЛ «Маяка», а это очень ответственная должность, Лия Сохина стала в 1975 году. К тому времени на комбинат начали поступать облученные твэлы с АЭС. За освоение новейших технологий переработки ядерного топлива Лия Сохина получила премию Совета Министров СССР. В соавторстве с коллегами издала мемуары «Плутоний в девичьих руках».

Пуск реактора в 34 года
Василий Владимирский (1915–2008) начинал свой путь в атомной науке с созданной в 1945 году Лаборатории № 3 (Институт теоретической и экспериментальной физики им. Алиханова), где он прошел ступени от старшего научного сотрудника до заместителя директора. До того, с 1942 года, работал в области радиолокации, а еще в 1941‑м вывел важные закономерности для квантовой теории поля.
В 34 года Василий Владимирский вместе с Абрамом Алихановым пускал первый в СССР тяжеловодный исследовательский реактор, в 1951 году — промышленный реактор для наработки плутония‑239 на комбинате № 817 в Челябинске-40. Через два года его удостоили Сталинской премии за теоретико-экспериментальные труды в области реакторных технологий.
Доктор физико-математических наук Василий Владимирский — один из ведущих разработчиков отечественной ускорительной техники. В числе его этапных достижений — протонные синхротроны с энергией 7 ГэВ (У‑7) и 70 ГэВ (У‑70) — рекордной на момент пуска. За У‑70 Василий Владимирский был награжден Ленинской премией.

Лауреат Сталинской премии в 30 лет
Герой Социалистического Труда, главный конструктор ядерного оружия и директор ВНИИЭФ генерал-лейтенант Евгений Негин (1921–1998) начинал со стрелково-пушечного вооружения самолетов. В этой области он специализировался в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. В 1948 году стал кандидатом технических наук, через год был переведен младшим научным сотрудником в КБ-11 (сейчас Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ВНИИЭФ) и принимал непосредственное участие в создании ядерного оружия.
Основным направлением деятельности Евгения Негина в КБ‑11 стали исследования в области газовой динамики для отработки конструкций ядерных боеприпасов. За успехи в этом деле в 1951 году он получил Сталинскую премию. Второй Сталинской премии был удостоен в 1953 году — за газодинамические расчеты заряда первой отечественной водородной бомбы.
В послужном списке Евгения Негина — первые в СССР подводное и подземное ядерные испытания и несколько полномасштабных испытаний в атмосфере на Новой Земле, ядерные испытания промышленного (мирного) назначения, оснащение ядерными зарядами целого спектра носителей: баллистических, крылатых, зенитных ракет, торпед и т. д.
В 1966 году Евгения Негина назначили первым заместителем научного руководителя КБ‑11 Юлия Харитона, а в 1978 году он возглавил ВНИИЭФ. Стилем его руководства было отсутствие приверженности «любимой» конструкции или идее в ущерб остальным. За это его особо ценили коллеги. К слову, Евгений Негин стал инициатором массового использования компьютерных технологий в институте.
Остается добавить, что образцы вооружения, созданные его школой, и сегодня составляют основу ядерного могущества России, а теоретико-экспериментальные ноу-хау определяют многие направления развития специальных технологий.

Доктор наук в 25 лет
Будущий академик Яков Зельдович (1914–1987) был заочником физмата Ленинградского университета, но не доучился — был слишком занят работой в лаборатории Института химической физики. Что не помешало ему в 22 года, формально не имея диплома, получить ученую степень кандидата физико-математических наук и в 25 лет защитить докторскую.
Компания у Якова Зельдовича была блестящая. В 1939 году он с Юлием Харитоном (тоже будущим академиком) рассчитал кинетику цепной реакции деления в водном растворе урана. Игорь Тамм (не только будущий академик, но и нобелевский лауреат), ознакомившись с выводами коллег, заявил, что их открытие может привести к созданию боеприпаса невиданной мощности. Когда Курчатов в 1942 году начал набирать команду для разработки атомного заряда, Яков Зельдович был в числе первых.
В 1943 году за достижения в физике горения и взрыва Яков Зельдович был удостоен своей первой Сталинской премии (три у него впереди). В том же году по поручению Курчатова расчетным путем обосновал низкую эффективность метода термодиффузии для разделения изотопов урана. Это имело важное значение для выбора более эффективных технологий обогащения урана по 235‑му изотопу (газовая диффузия, затем центрифугирование).
По предписанию Сталина Якова Зельдовича направили в КБ-11. Позже в правительственных документах его будут называть руководителем работ по построению общей теории атомной бомбы. За атомную бомбу РДС‑1, испытанную в 1949 году, 35‑летний Яков Зельдович в числе других был удостоен первой Золотой звезды Героя Социалистического Труда. Всего у него будет три такие награды.
В 1946 году Технический совет Спецкомитета при Совнаркоме СССР решил: «Поручить профессору Я. Б. Зельдовичу в трехдневный срок подготовить задание по изучению реакций в ядрах легких элементов и представить их на рассмотрение Технического совета». То был первый документально зафиксированный шаг на пути к созданию отечественной водородной бомбы. Яков Зельдович руководил рядом критически важных направлений, в частности решением проблем, связанных с радиационной имплозией и предетонацией — преждевременным инициированием нейтронами цепной реакции в атомном детонаторе термоядерного боеприпаса. За эти заслуги Яков Зельдович в 1956 году был удостоен Ленинской премии.
Ему принадлежат и выдающиеся исследования в области космологии. Некоторые предсказания Якова Зельдовича, касающиеся структуры Вселенной, подтверждены открытиями, сделанными астрофизиками в наши дни. В 2001 году в его честь был назван астероид, открытый в 1973 году.







