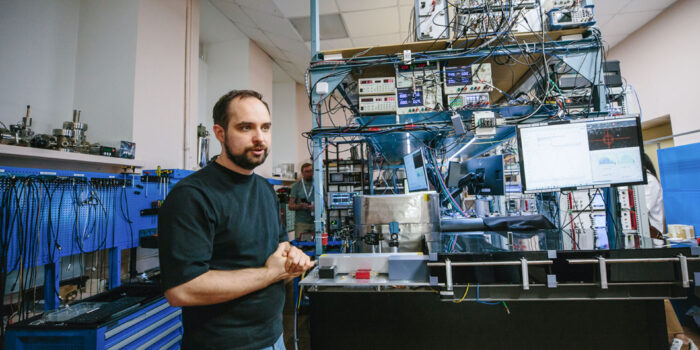Не только молитвами: в Энергодаре завершается роспись Богоявленского собора

Он станет самым большим храмом в Запорожье и самым высоким (54 м) зданием в городе атомщиков. Под сводами пятикупольного собора смогут единовременно находиться до тысячи прихожан. Его строительство затянулось на 30 лет, и, если бы не «Росатом», неизвестно, когда бы закончилось.
Православный худсовет
Внутренняя отделка храма завершена, но строительные леса еще не убрали — по ним ловко перемещаются шесть человек в измазанных краской робах. Иконописцы нижегородской мастерской «Ковчег» украшают стены ликами святых и сценами из Евангелия. Художники, специализирующиеся на создании пейзажей и орнаментов, дополняют изображения деталями.
Рязанский мастер Владимир Кривов расписывает храмы почти 40 лет. Еще мальчишкой помогал отцу-художнику, потом начал работать самостоятельно. Он специализируется на монументальных фигурах.
«Поскольку храм современный, логично было выбрать роспись в академической манере, распространенной в конце XIX — начале XX века, — говорит иконописец. — Есть эскиз, который мои коллеги создали с настоятелем храма, его утвердил Святейший Патриарх Кирилл. Но обычно в процессе работы вносятся изменения. Роспись должна идеально вписаться в тело храма. У каждого художника свой почерк — надо, чтобы он не выбивался из общей концепции. Часто приходится корректировать композицию или цветовую гамму. Так, розовый цвет полон сюрпризов: при одном освещении он выглядит дешево и простит рисунок, при другом смотрится благородно».

Икона-просветитель
Главная задача Владимира Кривова — изобразить на стенах собора сюжеты 12 больших православных праздников. В канон входят Рождество Христово, Крещение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы и др. «До XX века было много неграмотных. Библию читали в основном священнослужители и монахи. Рисунок — способ наглядно рассказать пастве историю Иисуса Христа, — объясняет Владимир Кривов. — Сегодня все грамотные, но Евангелие читают единицы. Так что просветительская функция росписи сохранилась».
Кроме того, художник изображает лики святых на лепных медальонах, украшающих внутренний периметр храма. В соборе будет много образов новомучеников, которых канонизировали в конце прошлого века.
«Некоторых еще ни разу не изображали, — отмечает Владимир Кривов. — Мы ищем прижизненные фотографии и работаем с ними. Стараемся, чтобы святой был похож на себя при жизни, при этом следуем иконописному канону. Одни священники просят придать лику умиротворенное, благостное выражение, другие — сделать построже. Иногда художник решает сам, исходя из своих ощущений».
Самая свежая работа Владимира Кривова — медальон с ликом святого Алексия Карпаторусского, православного миссионера и общественного деятеля, почитаемого в Запорожье. Он родился в конце XIX века в селе Ясиня, на территории АвстроВенгрии (сейчас часть Западной Украины). В детстве был послушником в грекокатолическом монастыре, повзрослев, ушел на Афон и принял православие. В 1910 году в сане иеромонаха вернулся на родину, чтобы проповедовать, — за пару лет Алексий обратил в свою веру около 35 тыс. человек. Власти преимущественно католической Австро-Венгрии начали преследовать православного священника. Миссионер бежал в Америку, но через несколько лет вернулся из-за усилившихся гонений на крестьян из его паствы. На родине Алексия обвинили в госизмене и приговорили к заключению. После освобождения священник основал Свято-Никольский монастырь в селе Иза (сейчас часть Украины), где продолжал служить до конца жизни. Его канонизировали в 2001 году.
«В моем распоряжении была прижизненная фотография Алексия, — рассказывает Владимир Кривов. — Лицо было видно на три четверти, я же написал его анфас. Глаза у моего святого добрые, он смотрит на мир с любовью. Я читал, что он был очень добрым человеком. Думаю, в дальнейшем иконописцы будут изображать Алексия Карпаторусского так же, как я. Это обычная практика — мой отец первым написал лик святого Софрония Ибердского, и его версия стала канонической».
Еще одна творческая артель работает над иконостасом для Богоявленского собора в мастерской «Ковчег». Настоятель храма Василий Брода рассказывает: «Иконы будут писаные, то есть созданные вручную с соблюдением строгих канонов и правил. Сам иконостас весь в золоте. Длина от левого крыла до правого составит 35 м, высота — 10,6 м. Это много. В храме будет четыре алтаря: один подвальный, которым мы пользовались последние годы, и три новых».

Провидческая шутка
Когда в 1995 году заложили первый камень будущего собора, Василий Брода еще даже в семинарию не поступил — учился в школе и помогал в храме села Иза, нес клиросное послушание. «Впервые приехал в Энергодар в 2011 году, в середине осени. Шли дожди, на въезде в город мы с матушкой увидели храм без куполов, окон и дверей, территория вокруг была похожа на пустырь. Подошли поближе: крыша дырявая, по бетонным сводам течет вода. Я застал собор в самом плачевном состоянии, смотреть на него было грустно, — вздыхает настоятель. — Ни о каких богослужениях не могло быть и речи».
Василий Брода родом из Западной Украины, после окончания семинарии в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре его направили в Запорожье. Поначалу служил в храме Успения Пресвятой Богородицы села Нововодяного, что в 10 км от Энергодара.
«В Энергодар мы часто ездили за продуктами, и когда проезжали мимо собора, я в шутку говорил матушке, что когда-нибудь буду его настоятелем, — вспоминает Василий Брода. — А когда в середине 2011 года меня назначили сюда, расстроился. Знал, что уже несколько священников отказались, что стройка идет со скрипом, матушка тоже была против. Но я рассудил, что так Бог управил, и согласился. Тогда мне казалось: я единственный человек, который верит в то, что храм достроят».
Первым и последним радостным событием в первый год службы стала установка куполов. Приезжал митрополит Лука — архиепископ Украинской православной церкви Московского патриархата. Он заложил в фундамент капсулу с мощами святого Феодосия Печерского, освятил стройплощадку и центральный купол, вручил благословенную грамоту — письменное разрешение архиерея на строительство храма. Вскоре после этого объявили: денег на продолжение строительства нет.
Службы в подвале
Настоятель зарегистрировал при храме православную христианскую общину, но паствы не было — на территорию недостроенного собора никому, кроме него и его коллег, проходить не разрешалось.
«Пару раз в месяц потихоньку совершал молебны, по сути, для себя, — говорит Василий Брода. — Переживал за судьбу храма: постоянно ходили слухи, что стройку заморозят, объект законсервируют. В 2014 году нам разрешили поставить на прихрамовой территории мобильную часовенку, мы начали приглашать людей молиться. Так начала формироваться наша община. Еще через год позволили проводить молебны в нижнем приделе в подвальной части церкви. Внутри — бетонные стены, окон и дверей не было, отопления и света тоже. Но люди в храм все равно тянулись. Мне подарили икону Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», подле нее и молились».

С 2015 года стройка практически замерла — не было стабильного финансирования. Настоятель обратился за помощью к прихожанам. «Я не только отпевал, крестил, венчал, исповедовал и проводил литургии, — говорит он. — Я стал прорабом, уборщиком, сантехником и электриком заодно. Храм строили всем миром. За несколько лет установили окна, двери, сделали гидроизоляцию цокольного этажа, провели канализацию и отопление. Затем оборудовали актовый зал для воскресной школы, просфорню. На территории пробили скважину, вода в ней оказалась очень вкусной. Многие верят, что целебная».
Эффект присутствия
В 2022 году управление Запорожской АЭС перешло «Росатому». Тогда у настоятеля появилась надежда, что храм скоро достроят.
«Руководство ЗАЭС постаралось, чтобы на недостроенную церковь обратили внимание в госкорпорации, — говорит директор атомной станции Юрий Черничук. — Нам важно возродить жизнь в городе во всех ее проявлениях. Школы, сады, культурные объекты, храмы — в Энергодаре должно быть все, что и в любом городе присутствия «Росатома».
«Дело сдвинулось с мертвой точки осенью 2023 года, — отмечает Василий Брода. — Атомщики выделили деньги на внутреннюю и внешнюю отделку: оштукатуривание, устройство пола, благоустройство территории. В один из визитов в город Сергей Кириенко (первый замглавы Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета «Росатома». — «СР») осмотрел все и спросил: «Батюшка, а роспись нужна храму?» Я ответил: «Конечно, нужна, Сергей Владиленович». Вскоре мне сообщили благую весть: расходы на роспись собора и иконостас возьмет на себя «Росэнергоатом».
Основные работы завершены. Осталось закончить роспись внутри собора, установить иконостас и алтари, после этого храм освятят. Официальное открытие должно состояться в конце 2026 года.

Дмитрий Пшеничников
Член Союза архитекторов России, член Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации
— Богоявленский собор — архитектурная доминанта города, расположен на пригорке при въезде в Энергодар. Храм не относится к какому‑то единому стилю, но имеет черты русской архитектуры, в частности новгородской. Его восстановление — благое дело, он будет украшением города. Но памятником церковной архитектуры ему не стать, поскольку проект выполняли специалисты по гражданскому строительству, а не храмовому зодчеству и не учли ряд важных моментов. Культовое зодчество в нашей стране пришло в упадок в советские годы, долгое время церкви вообще не строили. После распада СССР культовое строительство возобновилось, но поначалу строили не всегда удачно из-за отсутствия опыта. С тех времен в стране осталось немало церквей, глядя на которые хочется не перекреститься, а отвернуться. В Польше, например, в бытность Советского Союза запрета на храмовое строительство не было, и сегодня там культовая архитектура идет в ногу со временем, у нее есть современное лицо. А у нас сейчас идет поиск сопряжения традиции и современных архитектурных тенденций. Много русских архитекторов имеют свой почерк, находят способы отразить нынешнюю эпоху. Религиозное зодчество не должно копировать гражданское, необходимо создавать современные пространства, где люди, как и прежде, смогут почувствовать себя ближе к Богу.
В XIX веке церкви строили по четким регламентам, существовал официальный государственный каталог с образцами. В них были оговорены все нюансы, от фундамента до лепнины на фасаде здания. Потом от образцов отказались. Сильной стороной такой систематизации было повышение качества строительства, слабой — в стране появилось огромное количество церквей, сделанных как под копирку. В современной России тоже была попытка структурировать процесс, когда в 2011 году в Москве стартовала «Программа-200» по строительству православных храмов шаговой доступности. На начальном этапе были разработаны несколько вариантов типовых храмов, но со временем отошли от этой практики: решили, что правильно, когда каждая церковь строится по индивидуальному проекту. В сегодняшних лучших образцах активно используются современные технологии. Например, Собор святителя Николая в Павшинской пойме в Москве выглядит традиционно, но в куполах установили скрытую светодиодную подсветку. Днем купола серебряные, вечером розовые, на Троицу они становятся зелеными, на Богородичные праздники — небесно-голубыми, на Пасху — красными. Или как в Храме Всех Святых Русской православной церкви в Страсбурге применение железобетона позволило создать сложную систему сводов и отказаться во внутреннем убранстве от привычных бра и паникадил, приметить освещение срытым отраженным светом. Самобытность благолепие, многообразие и в тоже время каноничность и сакральность важны при создании храма в наше время.
7 тыс. м2
общая площадь собора, подлежавшая восстановлению