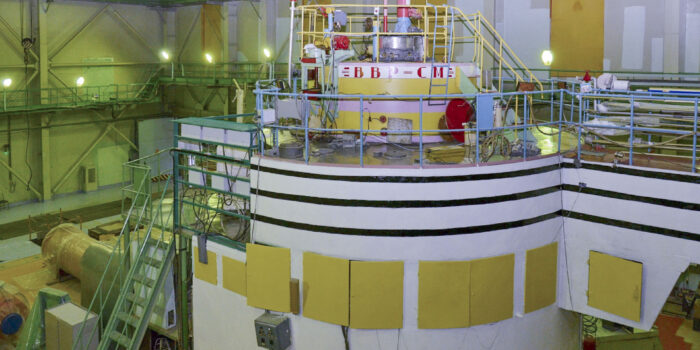Что должны знать и уметь дефектоскописты

Абсолютный слух им не менее важен, чем музыкантам. Умению определить дефект сварного соединения через толщу металла они учатся годами. От их профессионализма зависит безопасная эксплуатация оборудования, а значит, и безопасность всей АЭС. Речь о дефектоскопистах, работу которых на атомных станциях считают одной из самых востребованных и ответственных.
«Наша работа не для разгильдяев»
Артур Бернер, окончив училище в Удомле, получил сразу три профессии: сварщик, контролер сварочных работ и дефектоскопист ультразвукового контроля. После учебы устроился на Калининскую АЭС. Сначала поработал контролером на строительстве четвертого энергоблока, потом сварщиком, но больше всего ему понравилась работа дефектоскописта. Уже три года он методами неразрушающего контроля проверяет качество сварных соединений трубопроводов, систем и оборудования атомной станции. Главное преимущество такого контроля в том, что объект не нужно демонтировать или останавливать работу оборудования, объясняет специалист.
Первый из методов — визуальноизмерительный — он освоил еще в должности контролера сварочных работ.
«Осматриваешь каждый стык, измеряешь параметры, чешуйчатость, проверяешь наружные дефекты, следишь, чтобы был тщательно зачищен сварочный шов, — поясняет Артур Бернер. — В дальнейшем, когда работал сварщиком, это мне помогло, сразу сам видел малейший дефект. Так что все легло в копилку знаний, навыков и пригодилось. Дефектоскописты работают и глазами, и головой. Чтобы разобраться в схемах, быстро найти дефект и проконтролировать его устранение, нужны и знания, и ответственность. Особенно когда идем на новый объект, работаем с новым оборудованием. Страшно бывает что-то пропустить, перебраковать. Нет, разгильдяи у нас точно не работают».
Самым сложным для нашего героя было освоить ультразвуковой метод исследования, он требует от специалиста глубокого понимания физики акустических волн и уверенного владения сложным электронным оборудованием, которое способно обнаруживать внутренние дефекты в металлах на глубине до нескольких сантиметров.
«Поначалу, бывало, путался, — признается Артур Бернер, — но потом привык, разобрался, стал больше читать, вникать, изучать. А еще мне посчастливилось попасть к отличному учителю — Николаю Леонидовичу Лобанову, ведущему инженеру, человеку старой закалки. Сам он тоже когда-то начинал дефектоскопистом 2‑го разряда, так что работу знает от и до. Многое мне рассказал, подсказал, советовал. Потом я съездил в Москву на аттестацию, там тоже были отличные спецы, объясняли все доходчиво и интересно».
После Москвы молодой специалист приехал окрыленный: столько всего узнал, всему научился. Как-то после приезда собрались с коллегами за рабочим столом, и он с воодушевлением начал рассказывать, что вот это делаем не так и руку в Москве учили держать по-другому… Мужики слушалислушали, и один опытный дефектоскопист не выдержал: «Ты все правильно говоришь, а можешь сказать теперь, что это?» — и постучал рукой по столу. Артур Бернер удивился: ну, стол, рука, а дальше-то что?.. «А дальше, — говорит тот, — ты ставишь датчик на объект и происходит вот такое действие, колебания, резонанс. И в этом, оказывается, все дело. А ты: стол, рука… Так что давай, студент, учись дальше!»
Урок опытного дефектоскописта наш герой учел: сегодня специалист по неразрушающему контролю должен обладать обширными знаниями в самых разных областях науки и техники. В том числе разбираться в свойствах материалов, слышать дефект. При исследовании особо ответственного оборудования назначают дополнительные методы контроля. Например, вместе работают рентген и ультразвук. Что не определяется одним методом исследования, обязательно обнаружится другим.
На каждый сварочный шов, каждое оборудование есть свои технологические карты. Дефектоскописты их изучают, открывают наряды на проведение работ, занимаются настройкой оборудования и приступают к исследованиям. Проверяют, помечают дефекты, заносят в базу, чтобы в дальнейшем провести повторный контроль и определить, не развился ли дефект.
«Если провести аналогию с врачами, то мы ведь не просто приходим на прием, чтобы, например, пройти обследование, — говорит Артур Бернер. — Врач ставит диагноз, назначает лечение и обязательно вписывает все в историю болезни. Составление отчетов после проверки и анализа данных, а также рекомендации по устранению проблем — все это рутинная, бумажная работа дефектоскописта, но она очень важна для того, чтобы найти дефект и обезвредить».
Из мехатроников в дефектоскописты
Евгений Пашков окончил Курский государственный технический университет (сейчас ЮгоЗападный государственный университет) по специальности «мехатроника», объединившей механику и электронику. Предполагалось, что в этом направлении, в службе технического контроля, он будет трудиться в одной из подрядных организаций, которая сотрудничала с Курской АЭС. Но там ему предложили поехать в Москву учиться на дефектоскописта.

О том, что это за профессия, на тот момент он не имел представления, в институте такого предмета не было. Оказавшись в Москве, поначалу на лекциях ничего не понимал. Катоды, аноды, рентгеновские трубки — зачем ему это? Но отступать было стыдно. Накупил нужных книг, штудировал их вечерами в гостинице и в итоге подошел к экзаменам уже в полной боевой готовности. Сдал теорию с первого раза. Вот так мехатроник Евгений Пашков стал дефектоскопистом, о чем за последующие 22 года работы ни разу не пожалел.
В отдел технического контроля Курской атомной станции он пришел в 2012 году и сразу дефектоскопистом 5‑го разряда, специалистом ультразвукового контроля. Здесь с помощью наставников и коллег начал осваивать методы неразрушающего контроля: визуальный, капиллярный, ультразвуковой, радиографический. Чем больше узнавал, тем больше увлекала работа. Спустя четыре года его перевели на должность инженера, а затем и ведущего инженера группы рентгеногаммаграфирования, жидкостного и газового методов контроля.
«Профессия сложная, — говорит Евгений Пашков. — Основное оборудование станции — трубопроводы, и наша задача — разглядеть любой малейший дефект и понять, проходит он по нашим нормам или нет. Если пропустить дефект, впоследствии он может сказаться на эксплуатации, а это риск останова оборудования и даже всего блока. Видеть нюансы, чтобы не пустить в работу оборудование с дефектом, и есть самое сложное. А самое интересное, когда с каждым новым плановым ремонтом энергоблоков появляются дополнительные навыки: узнаешь новое оборудование, осваиваешь новые методики по контролю. Разбираемся в этом, проходим аттестации, по каким-то особым методам ездим на экзамены в Москву».
Чтобы понятнее стал принцип рентгеногаммаграфирования, можно вспомнить флюорографию. Здесь также на определенное соединение ставится пленка, с другой стороны подключается радиационный источник, какое-то время выдерживается экспозиция, потом проявляется, фиксируется на пленке, и можно наглядно увидеть стык — то, что спрятано внутри металла. Если во время ультразвукового контроля дефектоскописты смотрят по приборам и догадываются, что там может быть, то здесь итог исследования — фотография сварного соединения. На снимке видно, есть дефект или нет, нужно этот стык браковать или это, как говорят на станции, проходная история.
Понятно, что на самом деле все не так просто. Например, надо правильно рассчитать время экспозиции, чтобы пленка соответствовала определенной чувствительности, была не светлее и не темнее, без перепадов плотности. Нюансов в таком контроле много, и это требует внимательности, аккуратности и подкованности.
Сегодня Евгений Пашков работает в основном с документацией. На нем учет и контроль радиоактивных источников, которые есть в отделе, оперативные отчеты, зарядкаперезарядка дефектоскопов, инструкции по эксплуатации гаммадефектоскопов.
На вопрос о плюсах и минусах профессии отвечает, почти не раздумывая: «Большая ответственность, которая лежит на персонале, и есть самый большой плюс. Исследование сварного соединения — последняя операция, отвечающая за безопасность оборудования. Мы даем заключение о запуске в работу или непригодности сварного соединения. От нас зависит время сокращения ремонтов и работа оборудования во время эксплуатации. Впрочем, для кого-то эта самая ответственность, когда на тебя вся станция смотрит, может быть и в минус».
«Дисциплина бьет класс»
Мастер отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Кольской АЭС Александр Стариков родился в Полярных Зорях и с детства хотел работать на атомной станции. Учиться пошел в Петрозаводский государственный университет на физикоэнергетический факультет по специальности «теплофизика». Дальше была армия, наконец, в 2012 году он приступил к работе на АЭС в должности дефектоскописта 3‑го разряда. Это позволяло самостоятельно проводить контроль средней сложности.

Уже через два года молодой специалист повысил разряд до 4‑го, еще через год сдал экзамены на замещение должности инженерадефектоскописта и мастера и в 2021 году стал мастером участка дефектоскопии.
Вообще, дефектоскописты не являются универсалами. Обычно они специализируются на одном-двух видах контроля. Например, владеют визуальноизмерительным или ультразвуковым методом. Но это на других станциях, не на Кольской АЭС.
«Исторически сложилось, что у нас каждый дефектоскопист проходит оценку компетенции по шести методам неразрушающего контроля: визуальноизмерительный, магнитопорошковый, ультразвуковой, капиллярный, радиографический и контроль герметичности», — перечисляет Александр Стариков. Сам он самым интересным и одновременно самым трудным считает ультразвуковой контроль. «Если, например, радиографический контроль позволяет увидеть состояние металла на рентгенограмме, при ультразвуковом сам дефект мы не видим, а можем только получать эхо-сигналы от него. И нужно эти сигналы классифицировать, отличать ложные от реальных дефектов, — говорит он. — Наша работа — это всегда исследование, и этим она интересна. Когда есть время и желание не только делать, но и думать, работа не превращается в рутину».
В период планово-предупредительных ремонтов (ППР) Александр Стариков руководит работами по контролю металла оборудования и трубопроводов Кольской АЭС. Он один из четырех мастеров участка дефектоскопии на Кольской АЭС. Обычно на работу заступают два мастера: один трудится в зоне контролируемого доступа, другой — в зоне свободного доступа. Потом меняются локациями. «Чтобы быть взаимозаменяемым, нужно знать оборудование и турбинного, и реакторного отделения», — поясняет наш герой. Кстати, режим работы во время ППР у дефектоскопистов круглосуточный, работают в три смены.
Что нужно, чтобы стать хорошим дефектоскопистом? По мнению Александра Старикова, в первую очередь — внимательность и старательность. «В детстве я занимался дзюдо и самбо. Наш тренер любил повторять, что дисциплина бьет класс, — рассказывает он. — Если ты трудишься, стараешься, то со временем обязательно добьешься результата. Считаю, разобраться в нашей профессии может любой человек, обладающий техническими знаниями, знающий законы физики. Я, например, не учился на эту специальность, но ведь разобрался в ней. Помню, лет пять назад мы готовились к конкурсу профессионального мастерства. Нас отправили в Москву, в отраслевой центр компетенций. Когда я приехал оттуда, сам себе казался на голову выше, чем был месяц назад. Такой со мной произошел профессиональный скачок, такая появилась уверенность в себе, в своих знаниях и силах». Кстати, именно после этого, по мнению Александра Старикова, его и заметили как сложившегося профессионала.
Сегодня у Александра Старикова новые планы. Уже сданы экзамены на замещение должности начальника участка, в процессе экзамены на замещение должности замначальника отдела. Есть и еще одна мечта — он хотел бы поучаствовать в строительстве Кольской АЭС‑2. И, может, даже стать когданибудь на этой станции руководителем отдела дефектоскопии металлов и технического контроля. Почему бы и нет?
Артур Бернер:
«Мы работаем и глазами, и головой. Чтобы разобраться в схемах, быстро найти дефект и проконтролировать его устранение, нужны и знания, и ответственность».
Евгений Пашков:
«Видеть нюансы, чтобы не пустить в работу оборудование с дефектом, и есть самое сложное».
Александр Стариков:
«Наша работа — это всегда исследование, и этим она интересна. Когда есть время и желание не только делать, но и думать, работа не превращается в рутину».
Цифры
- Дефектоскопист может проводить до 20 различных измерений в час, обнаруживая дефекты размером от 0,1 мм.
- Более 60 % всех неразрушающих исследований в современной промышленности проводится с использованием комбинации ультразвукового и радиационного методов контроля, что позволяет выявлять дефекты до 0,1 мм на глубине до 200 мм.
- В 2015 году профессия «специалист по неразрушающему контролю» заняла 30‑е место в рейтинге 50 самых перспективных специальностей профессионального образования, составленном Минтруда России.