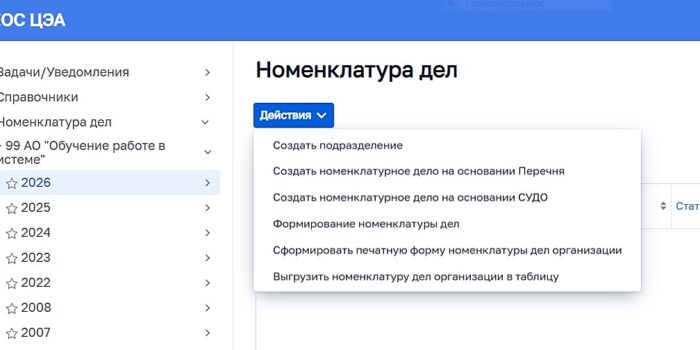Станислав Дробышевский — о заселении Арктики и будущем человечества

Пять лет подряд в августе десятки школьников из России (а теперь и стран — партнеров «Росатома») уходят в экспедицию «Ледокол знаний». Летом 2024 года на атомоходе «50 лет Победы» открылся самый северный в мире лекторий. Доцент кафедры антропологии МГУ Станислав Дробышевский прямо на палубе поведал детям, что привело древних людей в эти холодные края.
О важности любопытства
— Вы впервые выступали буквально среди льдов?
— Да, хотя, если честно, мне лекция на палубе не очень понравилась: и лектору холодно, и слушателям. Картинки невозможно показать, а мои лекции без них сильно проигрывают.
Я говорил о заселении Арктики: люди здесь появились, еще когда не вымерли неандертальцы, и с тех пор упорно сюда пробирались.
— То есть Арктика была притягательна во все времена?
— С бытовой точки зрения, казалось бы, человеку здесь делать нечего. На юге теплее, есть еда, но в таких условиях хочется жить всем. Соответственно, плотность населения высокая — конкуренция. А на севере людей мало: хочешь — пошел направо, хочешь — налево, хочешь — на Северный полюс, хочешь — сиди на месте. Зверье имеется, ну, по крайней мере, в ледниковом периоде его было полно. Там, где сейчас тундра, были замечательные сухие степи с огромными стадами копытных. Палеонтологи открывают в Арктике многовековые слои с костями оленей, лошадей, сайгаков, бизонов. Ледяной щит поглощал львиную долю почвенных вод: почва сухая, воздух ясный, нет никаких туманов, как сейчас. И за два месяца лета на такой почве вырастает сочная трава, на которой пасется много зверья. Есть зверье — есть еда. Значит, можно жить и удовлетворять свое любопытство. Полагаю, именно любопытство и гнало сюда людей тысячелетиями. Изучать это сложно — хотя бы потому, что на месте Homo sapiens от всех предшествующих видов.
— Любопытство для эволюции важнее прямохождения?
— Ну, тушканчики тоже прямоходящие, ходят на двух ногах. И кенгуру. Нет, именно любопытство позволило человеку разумному расселиться по всей планете. А узнать, как и когда это происходило, — ну разве не любопытно?
Есть старый тезис: если мы знаем прошлое, то можем понять настоящее и планировать будущее. Допустим, мы изучаем плейстоцен, где кроме людей современного вида жили неандертальцы. Но вымерли. Почему? Может быть, нам стоит понять, почему они исчезли, чтобы не повторить их судьбу? К примеру, мы уже знаем, что неандертальцы необщительны, не склонны заимствовать информацию, общаться, обмениваться. С их точки зрения, все было хорошо, они 100 тыс. лет жили как привыкли, ловили оленей. Но условия стали другими, появились сапиенсы — наши предки, которые пришли из Африки. И вот тут-то неандертальцы оказались в минусе, потому что не захотели менять образ жизни.
— На каком основании антропологи делают вывод, что неандертальцы не любили общаться?
— По так называемому материальному комплексу. Одна и та же археологическая культура у неандертальцев могла существовать тысячи лет. Допустим, Хотылевскому археологическому комплексу в Брянской области 90 тыс. лет. В поселке Бетово в полусотне километров тоже неандертальская стоянка, но появившаяся на 60 тыс. лет позднее. А объекты материальной культуры те же: какие-то битые камни, корявенькие кремниевые ножики, кости одного мамонта — ничего примечательного. И возьмем другой памятник — Хотылево‑2 (возраст — 21–24 тыс. лет. — «СР»), относящийся уже к сапиенсам. Богатейший культурный слой: найдены пять статуэток палеолитических Венер из камня и бивня мамонта, ритуальные комплексы, вертикально воткнутые ножики, ступить некуда — находки лежат слоями. Неандертальцы так не могли. И учиться, как мы понимаем, не хотели. Плюс даже по костякам (скелетам. — «СР») мы видим: неандертальцы жили небольшими группами, наверное, признавали за сородичей только членов группы — 30–40 человек. В итоге масса близкородственных браков, накопление отрицательных генетических мутаций. Сапиенсы этой ловушки избежали из-за общительности, способности обмениваться и предметами, и информацией, и генами. Вот вам уже и мораль: выживает вид, склонный к общению и взаимодействию даже с непохожими на него. А самоизоляция — путь к вымиранию.
Великое расселение Homo sapiens
— Назовите самые интересные актуальные проблемы антропологии.
— Для начала оговорюсь: предмет антропологии — в первую очередь современные люди. Я занимаюсь палеоантропологией — изучением останков древних людей и их предков.
На мой взгляд, в палеоантропологии есть три очень интересных периода. Время, когда наши предки спустились с деревьев и освоили прямохождение, — 7–10 млн лет назад. Затем период, когда австралопитек, не имеющий орудий труда, эволюционировал до сапиенса со сложным набором орудий — 2–3 млн лет назад. Это слабо изученный «загадочный миллион». И третий период — 50–300 тыс. лет назад, когда мы из недосапиенсов превратились в нормальных сапиенсов. В это время возникают все отличительные человеческие признаки: искусство, религия, попытки познания окружающего мира, своего рода протонаука.

— Мне доводилось слышать, что на эволюцию сильно повлиял повышенный радиационный фон.
— Эта идея возникла в 1920-е годы под влиянием экспериментов Марии Склодовской-Кюри, когда была открыта связь между радиоактивностью и мутагенезом. Второй толчок этой идее спустя 100 лет дали открытия австралопитеков в Южной Африке. Ведь там урановые залежи, а это колыбель человечества. Но это ерунда. Большая часть событий, связанных с превращением человека в человека, проходила в Восточной Африке, где никакого урана нет.
— В лекции вы не раз отмечали, что расселение людей — процесс длительный. В современном мире благодаря средствам передвижения миграция может быть очень быстрой. Это изменит нас как вид?
— Ну, история освоения той же Евразии была долгой. Люди же не шли открывать Евразию или там Америку. У них была знакомая местность, где хватало еды. Стало хуже — пошли чуть дальше. Опять же — любопытство, главная человеческая черта. Что важно, в те эпохи у людей не было никаких ограничителей. Куда захотели, туда и пошли. С какой скоростью шли, мы не очень хорошо представляем, поскольку даже у современных методов датировки большая погрешность. Но миграция же бывает разная. Например, в Чехии есть известная стоянка Дольни-Вестонице, на которой найдена бедренная кость человека возрастом 20 тыс. лет. Изотопный анализ показывает, что этот человек питался морскими продуктами. В Чехии до ближайшего моря сотни километров. Получается, этот человек за свою жизнь прошел практически всю тогдашнюю ойкумену — как раз в Чехии к тому времени заканчивался ледниковый щит.
Это конкретный пример отдельного человека, который быстро прошагал всю тогдашнюю Европу. Массы людей с такой скоростью, конечно, не передвигаются. Хотя вспомним Великое переселение народов в первые века нашей эры, когда огромные массы двинулись от границ современной Монголии и всего за несколько лет достигли современной Европы, по пути растолкав множество племен — кого на север, кого на юг.
Информационная сытость
— Существует убеждение, что у современных людей информационная перегрузка. На нас ежедневно обрушивается массив информации. В былые времена, дескать, человеку жилось полегче. Я знаю, что вы с этим не согласны, почему?
— Это чистая иллюзия. Нам кажется, что информация давит на нас со всех сторон. Но это псевдоинформация, которая неспособна как-то повлиять на нашу повседневную жизнь. От того, что ты не просмотрел ленту новостей за день или неделю, ты не умрешь, не оголодаешь, не замерзнешь. А вот для древнего человека информация была жизненно важна. И хранил он в памяти куда больше. Вот шумит трава: для современного человека это просто ветер, а для древнего — возможно, крадущийся леопард, который хочет его съесть. Или сорока заверещала: может, увидела медведя. Для первобытного человека важно, где растут съедобные ягоды, а где ядовитые, как общаться с людьми, как добыть огонь, сшить одежду, построить жилище. Он все делал своими руками. А значит, 10–15 тыс. лет назад человек мог быть полностью автономным. Современный сапиенс так не умеет: нет столько информации в голове. Кроме того, древний человек все делал быстро — то есть быстро соображал. У нас за последние 25 тыс. лет масса мозга сократилась на 150 г. Посчитайте, через какое время мозг человека будет как у австралопитека.
— И что делать?
— Учиться, учиться и учиться, как говорил вождь мирового пролетариата. Для сохранения эволюционного превосходства нужно, чтобы отбор шел в сторону более умных. По законам эволюции умные должны плодиться лучше, чем дураки. В древности было так. Сейчас вот некоторое ощущение, что все наоборот. Есть такая печальная закономерность: чем ниже уровень образования, тем выше рождаемость.
— Вы побывали на Северном полюсе. Где бы вы еще мечтали побывать?
— Остался еще Южный полюс. Не то чтобы я туда рвусь. Я в Америке не был ни разу — ни в Северной, ни в Южной. Да и вообще, планета большая. А полюс — это чисто символическая точка. Мы сейчас плывем, туман как молоко, и какая по большому счету разница, где там полюс. Есть много прекрасных мест. На Камчатке я не был, на Чукотке не был. Много есть мест, где я хотел бы побывать.