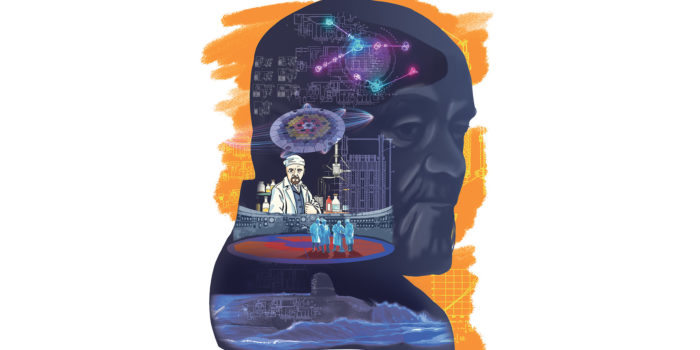«Аккумуляторы — это не только электродвижение, но и нацбезопасность»

Премию «Вызов» в номинации «Прорыв» в 2024 году за материалы для аккумуляторов получили завкафедрой электрохимии химического факультета МГУ им. Ломоносова, профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Евгений Антипов и его коллега, заслуженный профессор Сколтеха Артем Абакумов. Мы попросили Евгения Антипова рассказать об этих разработках.
От граммов к тоннам
— Вас наградили за создание фундаментальных и практических основ разработки и производства электродных материалов для металлионных аккумуляторов нового поколения. Что это за основы и почему это прорыв?
— Мы с коллегами разработали технологию и сделали опытное производство слоистых оксидов LiNMC (литий, никель, марганец, кобальт) — катодных материалов для литийионных аккумуляторов. Прошли путь от лабораторных установок на граммы до реакторов производительностью 5–10 т в год. Этого, конечно, очень мало: хватит всего примерно на 50 Tesla. В нынешнем году планируем выйти на 20 т. Следующая цель — 100 т в год. На 1 МВт·ч для аккумуляторов требуется порядка 1,5–1,7 т катодного материала.
Параллельно мы, ученые, студенты и аспиранты МГУ и Сколтеха, работаем над принципиально новыми материалами.
— Литиевыми? Натриевыми?
— Теми и другими. Натриевые аккумуляторы уже производят в Китае в промышленных масштабах. Их энергоемкость пока меньше, чем у литиевых, но и разработки на начальном этапе. Уверен, через пять лет в мире мы увидим производства натриевых аккумуляторов на сотни гигаватт-часов, а возможно, и больше. Выпуск литиевых аккумуляторов, по прогнозам, с 2030 года будет 2–8 ТВт·ч в год.
— В чем особенности вашего литиевого катодного материала? В интернет-публикациях говорится, что это сферические кристаллы. О чем речь?
— Мало получить материал с заданными электрохимическими свойствами, надо получить его в форме, удобной для использования. В нашем случае материал должен обеспечивать наибольшую плотность энергии не только на единицу массы, но и на единицу объема. Для этого нужна максимальная насыпная плотность. Ее дают микросферы, агломерированные из наночастиц. Оптимально би- или тримодальное распределение, когда меньшие микросферы заполняют пустоты между большими. Микросферы одного размера заполняют объем на 74 %, трех — почти на 100 %.
Важно научиться производить самим
— Расскажите об основных этапах изготовления ваших материалов.
— Если очень упрощенно, мы подаем в химический реактор водные растворы сульфатов никеля, кобальта и марганца и добавляем реактивы, которые обеспечивают равномерное осаждение этих переходных металлов с образованием слоистых гидроксидов в виде сферических частиц. Это самое сложное, потому что соли одних металлов растворяются лучше, других — хуже, и в осадке пропорция компонентов может отличаться от той, что мы закладывали. Или, что совсем плохо, они будут осаждаться по очереди. Такой материал работать вообще не будет. Мы долго подбирали условия, и в том, что у нас получилось, большая заслуга коллектива, особенно Татьяны Александровны Абакумовой. Она супруга моего коллеги профессора Абакумова и главный технолог базирующейся в Сколтехе компании «Рустор», где и велись все разработки. Осажденные сферические частицы-прекурсоры фильтруем от раствора. Потом литирование: активный гидроксид лития при 600–800 °C равномерно проникает в прекурсоры. Все отжигается, и получается катодный материал.
— Из него делают аккумуляторы?
— Да, в Сколтехе. Призматические аккумуляторы на 25 А·ч показывают удельную энергию до 250 Вт·ч/кг, это вполне конкурентоспособное значение. Качество наших материалов подтвердили Физико-технический институт им. Иоффе РАН и компании «Металион» и «Сатурн», которые изготавливают аккумуляторы.
— Сколько катодных материалов нужно гигафабрикам «Росатома»?
— 15–20 тыс. т в год.
— Когда такого показателя можно достичь?
— Вопрос «Росатому». Мы — ученые, мы не возьмемся за промышленное производство, этим должен заниматься бизнес. Насколько я знаю, «Росатом» планирует импортировать катодные материалы, «Норникель» — прекурсоры и слоистые гидроксиды, чтобы здесь их литировать. Но так конкурентного преимущества и уж тем более технологического лидерства у нас не будет. Это неинтересный путь развития.
Емкость аккумуляторного рынка к 2030 году оценивается в 0,5 трлн долларов. Катодных материалов в аккумуляторах значимая доля. Если их ввозить, у нас что будет, сборочное производство? Конечно, это тоже важно, и я не говорю, что организовать его легко. Но цены, по которым мы покупаем эти материалы у КНР, главного производителя, многократно выше его внутренних цен. Да и поставки ненадежны: сегодня перекупщик прислал хорошую партию, а завтра — в 10 раз большую, но ни на что не годную и исчез. А у тебя производство. И что делать, останавливаться? Кроме того, производителей аккумуляторов, пусть и с небольшими мощностями, в России довольно много. Поэтому научиться производить материалы — более важная задача, я считаю.

Преимущества натрия
— Перейдем к натриевым аккумуляторам. Почему они остаются в тени литиевых?
— Попытки использовать натрий начались параллельно или даже раньше исследований кобальтата лития в качестве катодного материала. Но натрий тяжелее лития, и удельная энергоемкость натрийионных аккумуляторов ниже, поэтому литий стал бурно развиваться, а про натрий забыли. Лет пятнадцать назад, когда заговорили о дефиците и дороговизне лития, к идее натрийионных аккумуляторов вернулись. О КНР мы уже говорили. Я был на одной китайской гигафабрике, она, конечно, производит сильное впечатление. Опытные производства есть в Великобритании, США, Франции.
— В чем достоинства натриевых аккумуляторов?
— Во-первых, они дешевле: натрия на планете очень много. Менее очевидное, но более важное преимущество — в натрийионных аккумуляторах и катоды, и аноды можно делать из алюминиевой фольги. Она дешевле медной, которую используют в качестве токосъемников в анодах литийионных аккумуляторов. В-третьих, натрийионный аккумулятор можно хранить и перевозить полностью разряженным. С литийионным так нельзя, потому что разрушится медный токосъемник. В-четвертых, при заряде-разряде натрий перемещается быстрее лития. Значит, можно быстрее заряжать и разряжать, выше удельная мощность. Это важно, например, для стационарных аккумуляторов солнечных и ветростанций, электробусов. В бюджетных электромобилях уже стоят натрийионные аккумуляторы. Уверен, в недалеком будущем они заменят свинцово-кислотные.
— Литий не заменят?
— Нет. На литии останутся более дорогие электромобили, портативная электроника, БПЛА и другие устройства, которым важна высокая удельная энергоемкость на единицу массы и объема. Думаю, в семействе металлионных аккумуляторов литий и натрий будут не конкурировать, а дополнять друг друга.
— В статьях о ваших натриевых материалах приводится удельная энергоемкость 540 Вт·ч/кг, это гораздо больше, чем у литийионных аккумуляторов.
— Не путайте удельную энергоемкость материала и аккумулятора, на которую влияет вес анода, сепаратора, электролита, корпуса. Но у нас все равно хорошая стартовая точка. Если говорить о натриевом аккумуляторе, то реалистично 160–180 Вт·ч/кг. У свинецкислотных 40 Вт·ч/кг. У литийонных аккумуляторов конкурентоспособным считается 250–280 Вт·ч/кг, но у некоторых китайских удельная энергоемкость 300 и даже 500 Вт·ч/кг. Правда, ресурс очень маленький.
— Кроме натрия для катодного материала нужен ванадий. Его у нас достаточно?
— У нас добывают много ванадия, и даже хорошо, что появится новый рынок сбыта. Проблема в другом: в катодных материалах на основе фторидофосфата натрия и ванадия, NaVPO4F, высокий электрический потенциал, при нем начинает разлагаться электролит, и срок жизни аккумулятора сокращается. Чтобы понизить потенциал, профессор Сколтеха Станислав Федотов и его команда предлагают использовать материал не со фтором, а с кислородом — NaVOPO4. Он должен показать лучшую циклируемость — количество циклов заряда-разряда.
Другой наш коллега, заведующий лабораторией «Материалы для электрохимических процессов» МГУ Олег Дрожжин, получил новую модификацию пирофосфата — NaVP2O7. Нет фтора, отличная кинетика, а главное — очень высокая безопасность, потому что при нагревании в заряженном состоянии NaVP2O7 не выделяет кислород, следовательно, электролит не окисляется, и нет угрозы взрыва аккумулятора.
Еще один способ решить проблему высокого потенциала — взять высоковольтный электролит со специальными добавками, которые защищают его компоненты от окисления. Можно также использовать в оксидном материале с натрием никель, железо и марганец в разных пропорциях. У такого катодного материала энергоемкость меньше, но циклируемость лучше и себестоимость ниже.
— С литием вы уже перешли на тонны, а с натрием?
— Пока на килограммах. Переход от граммов к килограммам требует существенных денег, к тоннам — очень существенных, под миллион долларов. Без специального финансирования никакой ученый не построит установку на тонну. Для литиевой мы получили деньги из Фонда Бортника (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. — «СР»), соинвестором выступила компания «Евросибэнерго» (сейчас «Эн+ Генерация». — «СР»), огромную поддержку оказал Сколтех.

Мы проиграли Швеции, но опередили Иран
— То есть интерес у энергокомпаний есть?
— Всем интересно. Но обычно говорят так: «Дайте нам батарею, мы ее протестируем». А до батареи путь длинный. Разговоров много, идут они давно — увы, результатов мало. Наш пример — один из немногих удачных.
Еще хороший пример — лаборатория материалов для химических источников энергии в Институте органической химии им. Зелинского РАН. Институт вложил большие деньги в ремонт помещения, оборудование, зарплаты, и лаборатория стала развиваться. В ее задачи входит разработка добавок в электролиты. Электролит, как кровь, состоит из разных компонентов, и, если в нем не будет небольших, но важных добавок, аккумулятор умрет. Одни, например, формируют защиту основных компонентов электролита от разложения, другие поглощают влагу, которая провоцирует гидролиз соли и осаждение фторида лития, из-за чего аккумулятор теряет емкость. Третьи — пламегасители, они замедляют тепловой разгон аккумулятора. Таких добавок больше сотни. Для каждой пары катода и анода нужен свой электролит, свои добавки. Первые результаты у лаборатории уже есть: благодаря определенным добавкам мы можем улучшить сохранность емкости аккумулятора при циклировании.
— Чем еще вы занимаетесь?
— Твердотельными аккумуляторами. В них вместо жидкого электролита, который может гореть и взрываться, твердый полимер. Эти разработки мы ведем с Волгоградским государственным техническим университетом.
— Что важнее всего сейчас, на чем нужно сосредоточить максимум усилий?
— Если мы не научимся сами производить ключевые материалы, если у нас не будет людей, которые понимают, как эти материалы работают, от чего зависят их свойства, то в сегменте аккумуляторов мы всегда будем зависеть от чужой воли. А аккумуляторы, как показали последние несколько лет, — это не только электродвижение, но и национальная безопасность.
Очень остро стоит кадровый вопрос. По количеству научных публикаций в области литийионных аккумуляторов мы занимаем 17‑е место — проиграли Швеции, но опередили Иран. Публикаций будет еще меньше, если вычесть совместные, среди авторов которых подавляющее большинство иностранцы. Поэтому своей главной заслугой я считаю то, что способствовал появлению и сохранению конкурентоспособного на мировом уровне научного коллектива.
Мы проводили прошлой осенью конференцию, из 150 участников половина — сотрудники Сколтеха и МГУ. Но научных коллективов должно быть много, нужна поддержка, чтобы они не рассыпались, а росли. Наша область очень трудоемкая, работать приходится в сухих камерах, с малым содержанием влаги и кислорода. Молодым ученым проще сесть за компьютер и, поручая расчеты искусственному интеллекту, получать те же деньги, а то и больше. Нужны стипендии, программы обучения в области металлионных аккумуляторов со специальными курсами, практикумами, межвузовское и междисциплинарное взаимодействие. Пока этого очень мало.
Справка
Национальная премия в области будущих технологий «Вызов» приурочена к Десятилетию науки и технологий в России и призвана отметить прорывные идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека.
Организатор и учредитель премии — Фонд развития научно-культурных связей «Вызов», соучредитель — Газпромбанк, партнеры — «Росатом», Правительство Москвы, «Росконгресс».